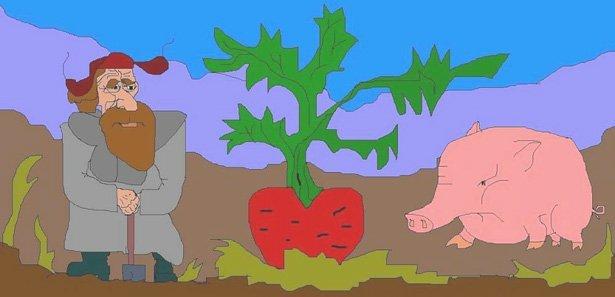Знаток мифологии Анатолий Васильевич Бармин
Публикую статью преподавателя Башгосуниверситета Анатолия Васильевича Бармина «СКАЗКА В ПОВЕСТВОВАНИИ В. П. АСТАФЬЕВА». Блестящий знаток народного фольклора, тонкий ценитель литературы, человек широких научных взглядов и высоких человеческих принципов — таким он остался в нашей памяти.
Анатолий Бармин
«СКАЗКА В ПОВЕСТВОВАНИИ В. П. АСТАФЬЕВА«
В решении поэтических задач современные советские писатели все чаще обращаются к фольклору, но обращаются по-разному и с разными целями. Ярким примером такого явления может служить творчество В. П. Астафьева. Фольклорный материал писатель подчинил своей главной творческой задаче – сомкнуть времена архаической сказки с живой действительностью. Правда, для этой цели он пользуется различными фольклорными жанрами, но на первом плане все же стоит сказка. Не случайно в последнем своем крупном произведении «Царь-рыба» он выносит сказку в само название.
Для выражения своего эстетического идеала Астафьев пользуется сказками всех народов – вплоть до долганских сказок о великаншах и духах женского рода.
В отличие от многих своих современников писатель берет древнейшие варианты сказок, где женщина выступает в положительной роли. Так делал его предшественник Пришвин в своей лирической эпопее «Кащеева цепь».
Наука давно заинтересовалась такими сказками в плане изучения древнейших пластов человеческой культуры. Еще А. Н. Веселовский отмечал, что рыба-Мелюзина не имеет ничего общего с поздними феями-Мелюзинами, тип древней Мелюзины, по его мнению, «должен был развиться в тотемистической матриархальной семье» 1. Сердце художника «летит и летит в незабвенные дали» не только для того, чтобы поделиться опытом прожитой жизни, но и для выражения правды поэтической.
Астафьев – художник большой темы и богатейшего поэтического языка, несущего в себе наследие культуры не только письменного, но и устного народного творчества.
Вступление к главной книге писателя «Последний поклон» до предела насыщено фольклорными жанрами. Он назвал его «Одой русскому огороду», при внимательном прочтении с грядок этого огорода можно собрать значительный поэтический урожай. «Огород» можно понять, как все, сотворенное народом не только в плане материальном, но и духовном. Здесь встречаются сказка и присказка, легенда и притча, наговор и загадка, частушка и песня. ^Все эти жанры входят в повествование органично и на малом пространстве позволяют передать глубокое философское содержание.
Хотя на первом плане – природа, земля, но поэтичность и характер образности всегда были в прямой связи с ней. Не случайно многие, в их числе А. Н. Афанасьев, символику языка, ее возникновение ставили в зависимость от воззрений человека на природу. Афанасьев особо подчеркнул это, назвав свое главное исследование,– труд всей жизни,– «Поэтические воззрения славян на природу».
Фольклорная структура образности лежит в основе поэтики Астафьева.
Таковы его мулька-икринка, — кадда, лилая, черемуха, белые горы, золотая карга, царь-рыба и т. д. Образы эти многозначны, что позволяет до предела уплотнить повествование. «Черное перо» не есть обычное перо птицы, это люди с черной душой, белогорье, как и беловодье 2, – мечта народа об иной жизни. «Мальчик в белой рубахе» – воплощение чистоты жизни, которую автор стремится воссоздать через «краски, звуки и запахи». Написать книгу о жизни – значит для него «воскресить мальчика», а вместе с ним звуки и краски той жизни, в которой он находил радости «даже в тяжелые дни и годы».
«Ода русскому огороду» – это одновременно и гимн автора русскому языку.
Иносказательность, загадочность последнего иногда подается в первозданном виде. Капуста, «как поп, который, хоть и низок, а обрядился во сто ризок», Морковь – «девица в темнице, а коса на улице», горох – «без рук, без ног ползет на бадог», банный веник – «в поле, на покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкунец. Всех перебил и царю не спустил».
Народные эффемизмы о «дородной редьке Шеломенчихе», о «табачке», садимом для потачки мужам в целях продления рода человеческого. Пословицы и «наговоры» свидетельствуют о древних нравственных законах и понятиях:
«Не живи с сусеками, а живи с соседями», «доля во времени живет, бездолье в безвремянии», «с гуся вода, с лебеди вода, а с малого сиротки худоба…».
Вступление определило главную тему книги Астафьева – тему спасения. Жизнью своей мальчик был обязан спасительнице девочке и не сразу осознал, что она «сильнее всего на свете… тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своей добротой». Эта «нездешняя» девочка имеет свой цвет, .присущий сказочным героиням. Ее платье «белое с синим», но осинилось оно от стирки, «основа осталось белой».
Встретившись с нею позднее, рассказчик заметит, что в глазах ее «накрошено много и белого, и синего, и серого, и который которого переборет, пока не угадать». Цвета прояснились в «безвремянии». Став матерью, девочка приобрела «взгляд в себя», как у скитницы-черницы, в этом взгляде – ведомая лишь ей «юдоль», которая и определила «донную синеву глаз».
Но спасителем мальчика был белый цвет сказки, о его нравственной сути сказано достаточно.
Будь то «ослепленная снежным светом, похожая на сову», учительница из Игарки, или официантка Аня с северным лицом, которое венчал сказочно красивый, «белый в рубчик строченый козырек». Эта девчонка, как птица «вспорхнула» в его жизнь, когда было особенно тяжело и не было рядом бабушки Катерины, главной героини «Последнего поклона», в молодости «разбитной, веселой сибирячки».
Именно от нее, как путеводительницы по жизни, мальчик услышал о цветке папоротника. «Найдешь его – станешь невидимкой, можешь забрать все у богатых и отдать бедным, выкрасть у Кощея Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, пробраться на кладбище и оживить свою родную мать и матерей всех осиротелых».
Слияние древнего поверья и сказки, апокрифа и легенды, видения и притчи характерно для Астафьева.
Однако масштабность эпического повествования, его дальние связи определила сказка. Она заставила писателя обратиться к истокам культуры, к тому спасению, которое было известно людям уже в мустьерскую эпоху, когда забота друг о друге была суровой необходимостью, без нее люди не смогли бы выжить на земле.
Начало «Последнего поклона» озаглавлено «Далекая и близкая сказка». Тем самым подчеркнута нетождествснность биографии мальчика и авторской, поскольку в таком повествовании» господствуют другие закономерности, где «чудесное нисколько не выходит за пределы естественности… но не твориться произвольно. Ничем не сдержанной фантазией… в сказке нет ни нарочито сочиненной лжи, ни уклонения от действительности». На таком чудесном основана авторская образность, сцепление глав книги.
Отдельные рассказы «Последнего поклона» связаны образом бабушки-спасительницы, ее афоризмы подчас становятся названием глав, поэтичность ее языка живет в стиле рассказчика.
Так, в «Зорькиной песне» герой идет с бабушкой навстречу солнцу, Но даже само солнце «боязливо прижимается к его живой и теплой бабушке». В древнем эпосе и сказке солнце отождествлялось с женщиной – «золотым чадом», Жар-птицей, об этом говорят сказки многих пародов, в том числе и русские сказки, и не только они» 6. Солнцепоклонничество Астафьева слилось с признанием мудрости бабушки, ее правоты: «Деревья растут для всех», «Быть всем вместе», «не говори «моё», отдай людям больше».
Недостойно для человека жить лишь дарами природы, надо разбираться в их запахах, что и делает бабушки. Ребятишки завидуют мальчику, считая, что он живет с «ведьмой», поэтому и легко ему.
Последовательность повествования в рассказах не рвется.
За детской мечтой о пряничном копе с «розовой гривой» стоит бабушкина мифология о вечно возрождающейся дневной жизни. Бабушкино напутствие о том, что жизнь страшнее снов и порой требует «штанов с карманом», может стать «ночью темною», готовит мальчика к серьезной жизни.
В ней могут встретиться не только те, кто несет чудо «бесконечной любви», но и всякие «соловьи-разбойники» — «пропащие люди». Разговор о пропащих входит в более обширный рассказ о людях, воспитанных «генеральством» бабушки, таких, как дядя Филипп с парохода «Спартак», который погиб под Москвой, командуя ротой сибирских лыжников. Повествовательные связи внутренне углубляются за счет фольклорности образов.
Взрослеет рассказчик, и это дает автору возможность перейти к изображению внутреннего мира героини, характера ее любви. В голодный год бабушка «усохла», по спасала других, подобрала даже заблудшую собачонку.
В душе ее переплетено религиозное и языческое, легендное и сказочное.
Творя молитву, она смотрит одним глазом па «матерь всенежнейшую», а другим на Шарика, может перекреститься па солнышко, помолиться «земле, огороду, лесу», по верит в одно: «Добро человеческое не пропадет». Такое добро и является связующей нитью повествования о спасении.
Масштабность последнего углубляется за счет переплетения легендного со сказочным при главенстве последнего. Во второй части «Последнего поклона» автор вводит другую бабушку – по отцовской линии – бабушку Марию из Сисима.
Она живет по законам Христова братства. Ее «копеечная доброта» покоится на «унижении» спасаемого, поэтому мальчик не может забыть подлинной доброты бабушки Катерины, которая никогда не именовала себя прислугой, что с «охотой» делает нелюбимая бабушка, потянувшая «богом определенный воз».
Добро ее основано на страхе за собственную жизнь и спасти никого не может.
Постанывая, она мгновенно может стать здоровой, когда дело коснется ущерба ее благосостоянию, ее помощь выливается в юродствующую игру по отношению к спасаемому. Разоблачению этой игры и посвящена завершающая повествование «Царь-рыба», последствия игры обнажаются через сказку, которая вынесена в заглавие.
«Царь-рыбу» автор определил как «вещь эпического характера», а такая вещь не могла состояться без сказки. Повествование связано темой спасения, но связано по сказочному принципу, определяющему качественный характер спасения. Так, в «Тысяче и одной ночи» вначале речь идет о спасении купца от Джина-духа, потерявшего сына и желающего отомстить, затем – от султана, ищущего убийцу своего любимого шута.
Наконец, повествование переходит в притчевые рассказы о спасении, предваряя объемные повести о спасении рода человеческого, во имя чего Шахразада пошла на подвиг. Такое построение мы видим и у Астафьева.
Книга начинается с попытки рассказчика спасти нелюбимую бабушку, вывезти ее из далекой Игарки. Этот запев сразу переходит в историю о спасении брата, которого жажда необычного, «вечной сказочки» толкнула на Таймыр, где он чудом спасся от миражной болезни. Когда жизнь становится особенно постылой и нет между людьми единения, миражные видения предпочитаются реальности: в них человек черпает видимость спасения.
Суровая природа, где люди чуть не погибли средь «воя и свиста, лешачьего хохота», сменяется ласковой, тихой, на миг успокаивающей, как в «Капле», но тема остается все та же.
Более того, оказывается, что спасение невозможно без сохранения красоты природы, ее творческой капли: «Тайга, особенно северная, без человека совсем сирота». Исчезновение зримой красоты может привести к нравственному урону, к торжеству утробного существования. Спасая себя, люди должны помочь природе, внести в нее свое творческое, человеческое, иначе их ждет трагедия.
Об этом свидетельствует следующая за «Каплей» картина жизни обитателей поселка «Чушь»: Дамки, братьев Утробиных, Грохотало. Человеческое бытие чушанцы спели к хищническим природным законам. Природа «ловкая»: она всем все распределила, «кому выть завывать, кому молча умирать». Глядя, как собачонка ворует птичьи яйца, младший Утробин, по прозвищу командор, замечает:
«Что в природе, то в народе, и обратно – борьба».
Но не все согласны с такой мудростью, сложилась пословица-«хохма»: «Живешь — колотишься, грешишь – торопишься, ешь – давишься и вряд ли поправишься». В справедливости ее пришлось убедиться. Гоняясь за благами природы, командор не смог уберечь и спасти свою любимую дочь, самое дорогое, что у него было.
Отношение к природе, как в сказке и мифе, у Астафьева неразрывно связано с отношением к женщине. И та, и другая могут взбунтоваться. При таких обстоятельствах и раскрывается тайна «мозговитого», внешне опрятного старшего Утробина, надругавшегося над женщиной и наказанного пойманной «рыбкой», ею же отпущенного на покаяние. Сюжет о Царь-рыбе принадлежит к числу древнейших. Он есть в славянском, тюркском, арабском и гплякском сказочном репертуаре.
В Европе его отголоски видны в древнем французском сказании о Мелюзине.
В отличие от позднего варианта о фее Милюзине, вышедшей замуж за рыцаря, древняя Мелюзина – получеловек-полурыба, всегда держится близ колодца вместе со своими сестрами. В одном из трех вариантов сказки в сборнике Афанасьева есть и «мотив Мелюзины» 7, встречается он и в сказках Господарева.
Все повествование стянуто у Астафьева к образу Царь-рыбы, в этом образе означена «сила плодовитости».
«Что-то первобытное и редкостное было в ней… что-то женское было в бережности, желании сохранить зарождающуюся жизнь». Ее «нежное бабье мясо» отвратно потерпевшему, «тошнотна и похабна требуха, набитая икрой».
Значимость образа в архаической сказке одна: везде «рыбка» – владычица природных сил, и добро ее имеет пределы. Так понят был этот образ Пушкиным, таков он и у Астафьева.
Притянутый рыбкой утопающий вспомнил легенду деда, его ворожбу и «запуки», его страх перед «Царь-рыбой». Вспомнил, как смеялся над советом: «Лучше отпустить клятую, перекреститься и жить дальше, чем думать о ней и снова искать ее… а ежели на душе грех, не вяжись с Царью-рыбой, отпусти ее: ненадежно дело варначье».
В легенду этот сюжет перешел позднее: сказочные герои не боятся рыбки, однако поиски её легенда сохранила.
Первобытность рыбки сочетается с поздней дедовской «трахамудрией». Она становится яснее в связи с «причудой» героини, которая однажды использовала осетровый череп как маску, так что клубный народ «со страху рамы вынес». Причуда связана скорее с пережитком тотемного культа рыбы, как предка всего человеческого, чем с Мессией мужеского пола, предсмертных муках после бесплодного обращения к богу, герой вспомнил униженную им когда-то причудницу.
Пришлось платить по большому счету: «Природа, она, брат, тоже женского рода!… всякому свое, богу – богово, освободи от себя, от вечной вины за женщину, прими муки: Гла-а-а-ша-аа, прости-и- и».
Спасенный чудом взбунтовавшейся «рыбки», получивший не постигнутое умом освобождение, герой изменился в отношении к ней, но решил об этом молчать. Без каких-либо нравственных скреп человеку уготовано «низколобое клыкастое мурло первобытного дикаря».
Путь к подлинному спасению привел автора к «Боганиде», которая на первый взгляд мало похожа на сказочную. Белоголовый мальчик шлепает в броднях по тундре в поисках пищи, но находит «красногубый цветок, горящий ярким заревом». В пору его цветения казалось, что «земля сияла, зажмурившись от собственной красоты». В русских сказках ради достижения такой земли изнашивалось сорок железных сандалий.
Боганида сопрягается с миром бабушки Катерины, ее «огородами», покоившимся иа древних нравственных законах.
Подобно тому, как за ее столом дети «не числились лишними, сидели твердо середь работников, ели хлеб и огородину своим трудом добытые», непреложным законом рыбацкого коллектива Боганиды было: «Еду вперед детям». Сами дети росли добытчиками: «первый свой хлеб для ребенка – гордость».
Заработанное отдавали женщине, «хранительнице очага». Эта артельная среда воспитала Акима, не знавшего отца и бабки-долганки, а – лишь мать-долганку. Родословная героя уходит глубоко в историю культуры: «У долган вообще нет духов мужского рода»9.
Мать Акима не считала свою гулящую жизнь зазорной, не чувствовала в себе раскаяния Магдалины. Однако в новой жизни ее языческое мировосприятие причудливо переплелось с верой сельских женщин: «Пох один для всех. Помяни, Господи, сыны эдемские во дни Иерусалимовы глаголящие: истощайте до основания его».
Эта молитва не помогла ей в смертельной болезни, как когда-то не помогла мальчику и каноническая молитва. Тогда она обратилась к «наговорам» о «сыроматерной земле», «архангельском ключе»: «Сотвори, отвори, укрепи жилы и кости, белое чело». Но ни то, ни другое помочь не могло: она «привыкла ко-нссгдашней помощи от людей».
Мать оставила сыну неунывающее «е-ка-лэ-мэ-нэ» и привычку выговаривать в одно слово «отецмать».
Генеральство бабушки в «Последнем поклоне», игра в «мам» в «Оде русскому огороду» в Боганиде стало прерогативой сестры Акима Касьянки. Она распоряжалась у огня «пуще, чем начальник Киряги… говорила шибко: «С вами, с мужиками, не говори да не следи, так и толку не будет». Такое генеральство уводит в мир волшебной сказки. Не случайно потомок древнего долганского рода своей судьбой повторил кратковременную вспышку красногубого цветка. Оба они раскрываются перед людьми с «полным доверием».
Туруханская лилия стала символом этой жизни, «аленьким цветочком» сказки. В памяти автора цветочек, «приручивший само солнце, никогда не перестанет цвести… и когда-нибудь хоть одно его семечко прорастет».
Неизбывно цветение боганидской лилии и в памяти героя. В самый трудный час он хотел бы найти свой предел и успокоиться среди тех, кто когда-то любил его бескорыстно», просто за то, что он есть на свете». Его долганское прошлое сопрягается с настоящим.
Жажда сказочки, неизведанного потянула Акима к белым горам, приснилось, «будто, шел он к ним шел и никак не мог дойти». Сон смыкается с действительностью: на пути к белым горам человек был распят самой природой, «угрюм-рекой».
Он «излаживал» ей всякие молебны, вплоть до языческого:
«Вода лиха не насылай! Ветер, ветер, пробудись, о полуночь обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй».
Для изображения подлинного спасения в экстремальных условиях автору понадобилась объемная повесть. Спасение москвички Эли, вхождение «в сказку» предложили два «рыцаря» – круглокостный Гога и узколицый, узкопятый Аким.
Для Гоги сказка – игровое чудо, для Акима – мечта людей о белых, «небесно-чистых, необъяснимо манящих» горах, за которыми скрывается настоящая жизнь. Герою пришлось столкнуться с итогом игрового чуда, «тихим узасом», почти умершим человеком. Он не только избавил ее от физического недуга, но и «совершил прополку в голове», помог Эле воскреснуть духовно, поверить в возможность действительного преображения.
Процесс преображения через «бело-горие» был обоюдным. В жизни героя тоже сбылось «главное»: «шел он шел к белым горам и пришел, остановился перед сбывшимся чудом», правда, оно оказалось «хрупковатым», но чудом подлинной любви.
Кульминационной точкой спасения является страдный путь человеческой пары.
Одному охотнику было не спастись, помогла «одолеть слабость и подняться» она. Аким был поражен духовной силой слабой больной женщины, «таящейся в ней неистовой жажде жизни». Но и она, как сама природа, нуждалась в помощи.
Идущие становятся похожими на старика и старуху, героине кажется, что она знает своего спасителя «почти сто лет». На пути возникают ссоры, но кончаются они не покаянием и целованием рук, а пониманием «чужой боли». В суровом пути с них спадает все мишурное, наносное, неверие сменяется верой, отчаяние – радостью. От навязчивых дум Эли о таинственных жрецах и жрицах остается лишь «голубая пустота глаз».
Спасение пришло не от веры в бога, а от веры в людей. «Люди погибнуть не дадут» – эти думы в душе героя стали реальностью.
И под тем же кедром, где успокоился «магистр игры», происходит подлинное спасение. Связующая сила добра делает произведение цельным. Об этой художественной цельности говорит и финальное: «Нет мне ответа». Автор останавливает внимание читателя не на «внешней церковной опрятности» бабушки Марии, а на чистоте внутренней – бабушки Катерины, с ее «неунижающим добром», помогающим освободиться от «проклятой робости».
Типы повествовательных связей диктуются объектом изображения. Мы хотим лишь сказать, что сказочный характер связей (когда рассказ тянет за собой другой, углубляя и расширяя одну и ту же тему) рождает принцип дальних связей.. Здесь образ-мотив вспыхивает, подобно маяку, иногда через большие отрезки сюжетного пространства. Там же, где нет такого пространства, нет фабульной самодостаточности, связи будут иными.
У Астафьева функции «рыбки» могут быть заменены лилией, черемухой, каплей, но сущность образа, выражающая идею спасения, характер нравственности, остается неизменной до конца повествования.
Пристрастие автора к архаической сказке, ее цветовой символике неоспоримо.
Книга его в этой связи может показаться антисказочной, если под сказкой понимать извечную «фейность» – плод позднего субъективного творчества, «творимой легенды».
Что касается дорогих автору звуков, пронзительной задушевности его повествования, то последнее в большей мере связано с песней, но это предмет другой статьи. Книга Астафьева построена так, что одно поется, другое сказывается. Сама природа повествования в конечном итоге связана со спецификой фантазии, в частности, с фантазией архаической сказки, и не может быть прояснена без нее.
1 Веселовский А. Н. Поэтика, т. 2, СПб., 1913, с. 32. См. его же: «К фрагментам «поэтики сюжетов», Уч. зап. ЛГУ, 1940, № 64, с. 21.
2 О беловодье и белогорье, «земле каликарской» см.: Русские и инородческие сказки Сибири, РГО, Томск, 1906, с. 192.
3 См. например, книгу Е. В. Баранниковой: Бурятские волшебно-фантастические сказки, Новосибирск, 1978, с. 211.
4 Это заметила Е. Старикова, см. Новый мир, № 1, 1979.
5 Афанасьев А. Н. Сказка и миф Воронеж, 1864, с. 2.
6 См.: Сказки, песни, частушки Вологодского края под ред. Вологда, 1965, с. 184.
3 В. Гуры, 143
7 Афанасьев А. Н. Русские народные сказки, т. 2, М., 1957, с. 400, а также: Киргизские народные сказки. Фрунзе, 1968, с. 177–187, сб. арабских сказок «Сорок пленниц», М., 1902, с. 130–180, перечень вариантов в кн. Л. Г. Барага «Сюжеты и мотивы белорусских сказок», Минск, 1978, с. 90 (на белорусском языке).
8 Пропп В. Я. Фольклор и действительность, М., Наука, 1976, с. 230.