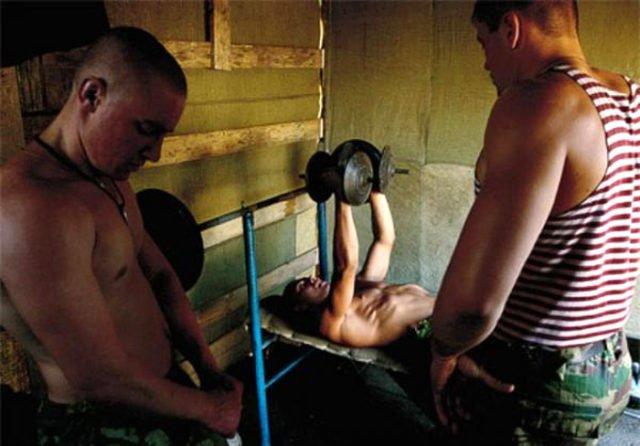На фото 1936 г. ученицы-татарки в японской школе читают молитву против большевиков
Изучение истории российской эмиграции на Дальнем Востоке — одно из развивающихся направлений в исторической науке. Однако до сих пор внимания к национальной структуре российской диаспоры в Северо-Восточной Азии не уделялось.
Российские и американские исследователи отметили особенность эмигрантов Дальневосточного региона — разделение по национально-этническому признаку, «чего почти нельзя встретить среди эмигрантов западной ветви». Так, Т. В. Ревякина называет русскую эмиграцию в Северо-Восточной Азии «региональной российской диаспорой».
Д. Вольф пытается объяснить причины возникновения такого специфического типа общества либерализмом российских властей изучаемого периода в Маньчжурии, особенно после русско-японской войны 1904 г., что было нетипично для Российской Империи и ее национальной политики. Он предполагает, что после 1917 г. Маньчжурия и, особенно, ее столица Харбин превратились в самосознательное, частично саморегулируемое общество. Ясно, что основой здесь являлись общины, в том числе национальные.
Изучения татарской национальной диаспоры фактически до настоящего времени не предпринималось. Так, автор одной из лучших книг по истории Дальнего Востока Д. Стефан вообще не упоминает о татарских эмигрантах и их обществах, в то время как отмечает польскую, еврейскую и другие диаспоры.
Т. В. Ревякина отводит им всего несколько строк: «По всей Маньчжурии, а также в Шанхае, имелись тюрко-татарские национальные общины и их культурно-просветительские общества. При общинах, как правило, имелись свои духовные центры — мечети (в Харбине — три, на линии КВЖД — около 18 мечетей); национальные школы и общества (убежища) для призрения стариков и сирот». В последние годы появились работы татарских и башкирских историков, однако и они не дают целостной картины развития миграционного процесса среди татар.
Аналогичное мнение высказал А. Пронин: «Проблемы истории татарской эмиграции, формирования татарской диаспоры бывшего СССР оставались долгое время вне поля зрения советских историков и публицистов». По мнению автора, до начала 1990-х гг. таких работ не было вообще.
Только в 1994 г. в журнале «Татарстан» была опубликована статья историка И. Гилязова «Там, в иных краях», посвященная татарской эмиграции в 1920-1940-е гг. Автор публикации отметил несколько проблем, стоящих перед исследователями истории татарской эмиграции: необходимо определиться с датой отсчета татарской эмиграции, внести ясность в вопросы о хронологии и численности ее «волн», выявить географические центры рассеяния, рассмотреть не только политическую, но и культурную жизнь татарских общин; заслуживают проработки вопросы юридической, экономической, психологической адаптации эмигрантов; интересно рассмотреть жизнь татарской диаспоры в лицах.
У японских исследователей так же существует давний интерес к тюрко-татарским эмигрантам. Профессор Токийского университета Хисао Коматцу замечает, что большинство японских исследователей Волго-Уральского региона пришли из славистики, поэтому они используют, в основном, источники на русском языке, в то время как источники на татарском, башкирском и других тюркских языках практически не исследованы, хотя и хранятся в архивах Японии.
Следует отметить, что подобная проблема актуальна и для российских исследователей эмиграции в Японии. Среди российских японистов практически нет исследователей, знающих тюркские языки.
Более того, нам кажется курьезным тот факт, что первые работы о значении и роли тюрко-татарской диаспоры в Японии и Северо-Восточной Азии (в частности, ее влияние на развитие турко-японских, исламско-японских связей, влияние на развитие японского национализма), появившиеся на английском языке, принадлежат турецким исследователям, а не российским (татарским или башкирским).
Окончательный термин в определении эмиграции тюркоязычных народов на Дальнем Востоке пока не установился. А. Юнусова называет ее то «татаро-башкирской», то «тюрко-мусульманской». Исследователь считает, что в Японии диаспора была преимущественно башкирской, ссылаясь на то, что лидером ее был этнический башкир, мулла М.-Г. КурбангалиевI , и в названии должно присутствовать указание на «башкирскую» составляющую.
По нашему мнению, можно согласиться с этим термином применительно к татарской эмиграции в Японии, но не в отношении всей эмиграции на Дальнем Востоке.
Р. Гайнетдинов применяет термин «тюрко-татарская эмиграция», подчеркивая тем не менее единство татар и башкир. По его мнению, «это была эмиграция духовно и этнически близких народов».
В ряде исторических и архивных документов, в том числе в документах архива ФСБ России, встречается термин «тюрко-татарская эмиграция».
Нам представляется более приемлемым термин «тюрко-татарская» эмиграция, так как официальным языком общения внутри общин, а также языком печатных изданий на Дальнем ВостокеII, был татарский язык.
Более того, японский тюрколог Кооджи Окубо, долгое время живший в среде тюрко-татарской эмиграции в Маньчжурии, писал в статье «Жизнь тюрков в Харбине» (часть «Тюрко-татарский язык в Маньчжурии»): «Особенное место занимает в Маньчжурии тюркский язык. Вслед за китайским и русским языком он используется здесь как язык международного общения (кроме того, ограниченно применяются еврейский и японский языки, как правило, евреи говорят по-русски).
Причины этого:
1) тюркские племена с давних времен посредством движения на запад распространили влияние тюркского языка, поэтому с недавнего времени Россия использовала людей тюркской национальности для влияния на Дальнем Востоке;
2) влияние и интерес тюркских стран к Восточным странам, политические и торговые отношения и приезд сюда людей из тюркских стран;
3) так как распространилось влияние тюрков (по первой причине), основой их языка был тюркский или просто татарский, на Западе — вариант османского языка. Но различия в вариантах тюркского языка очень небольшие. Уникальность этого языка в том, что любой тюрок способен понять его, и, следовательно, этот язык полностью удовлетворяет потребностям коммуникации… Таким образом, тюрки разговаривают между собой по-турецки и татарски, с русскими — по-русски, с представителями других национальностей — или на их языке или по-русски, с представителями тюркских народов — по-тюркски, используя тюркский язык как эсперанто».
Необходимо уточнить, что термин «тюрко-татарский» не означал в Японии того периода принадлежности эмигрантов именно к татарской нации.
Японцы выделяли в многонациональном составе СССР туранскую (урало-алтайскую), как они ее называли, национальную группу. Она, по их представлениям, подразделялась на тунгусскую, монгольскую, тувинскую, тюркскую (тюрко-татарскую), финно-угорскую и самоедскую группы.
Тюркскую (тюрко-татарскую) группу составляли следующие народы:
восточные тюрки (якуты, алтайцы, барабинские татары, сибирские татары (тобольские татары или сибирские бухарцы));
западные тюрки (киргизы, казахи);
западно-сибирские татары, волжские татары, башкиры, чуваши и мишары;
центрально-азиатские тюрки (узбеки, сарты);
южные тюрки (туркмены, османские тюрки, ногайцы, азербайджанские тюрки)15.
Таким образом, под определением «тюрко-татарский» понималась довольно многочисленная группа тюркоязычных народов. Возможно, термин «татарский» присоединялся для локального применения в условиях японского протектората в Азии и для облегчения восприятия азиатскими народами этой национальной группы, исторически связанной с возникновением в Центральной Евразии империи Чингисхана. Именно под словом «татар» (или «дат-тан» в японском и китайском произношении) создавались устойчивые ассоциации с тюркскими народами.
Кстати, в Европе в это же время термин «тюрко-татары» был менее распространен. И. Гилязов использует термин «поволжские татары», ориентируясь на тот факт, что татарская эмиграция концентрировалась вокруг «Комитета Идель-Урал».
Тюркская эмиграция в Европе была более организована и многочисленна, потому и дифференцирована. На наш взгляд, эмиграция в Северо-Восточной Азии в большинстве своем состояла из поволжских татар; само название «идель-уральские татары» появилось для подчеркивания национальной идентичностиIII в период посещения Г. Исхаки Манчьжурии.
Другие тюркские национальности, такие как башкиры, азербайджанцы были малочисленны и не смогли создать самостоятельные организацииIV, потому и присоединились впоследствии к поволжским татарам.
Однако мы не можем настаивать на термине «тюрко-татарская эмиграция», так как мусульманский компонент, особенно до 1930-х гг., превалировал в самоидентификации российских тюрок, а следовательно, и эмигрантов, о чем говорит создание изначально «мусульманских общин» в этом регионе, а не национальных тюрко-татарских (они стали появляться только в 1930-х гг.). Возможно, впоследствии термин «тюрко-татарская эмиграция» будет уточнен.
О. Бакич выделяет три основных периода в истории российской эмиграции в Харбине:
1. Царистский период — от начала строительства КВЖД (1898 г.) и до конца существования Российской Империи (1917 г.);
2. Собственно период эмиграции — с 1918 г. по август 1945 г., характеризующийся быстрым увеличением эмигрантов, совместным китайско-советским управлением КВЖД, японской оккупацией и жизнью в созданном японцами государстве Манчжу-Го;
3. Советский период — с 1946 г. до окончательного исчезновения эмигрантов в середине 1960-х гг.
Взяв за основу эту периодизацию, деля второй период на три более специфических, зависящих от сложности процесса развития именно тюрко-татарской эмиграции, можно вычленить пять периодов в развитии тюрко-татарской диаспоры в Северо-Восточной Азии.
Первый период — с начала строительства КВЖД (1898 г.) до революции 1917 г.
Д. Стефан указывает, что историю крестьянской эмиграции на Дальний Восток до 1917 г. можно разделить на три периода, а именно: 1859-1882 гг., 1882-1907 гг. и 1908-1917 гг. У нас нет свидетельств того, что первая волна крестьянских эмигрантов вобрала в себя и татар, хотя Стефан уверяет, что среди них были семьи из Волго-Уральского региона.
Как известно, первым поселенцем-татарином в Маньчжурии был Байчурин, прибывший с первой партией поселенцев в 1898 г. после принятия решения о строительстве КВЖД. Таким образом, можно утверждать, что татары стали обосновываться здесь на поселение в период второй волны эмиграции (1882-1907).
По данным Д. Стефана, 8 % переселенцев (19 440 человек из 243 тысяч) составляли крестьяне из Белоруссии, Нижней Волги и Уральского региона. Третья волна — столыпинская — принесла и коммерсантов. Возможно, основная масса татарских семей прибыла именно в этот период.
Татары, преимущественно пензенские и казанские, так называемые мишары, в 1904 г. создали мусульманскую общину Харбина. Название «мусульманская община» корреспондируется с существовавшим в начале XX в. понятием «российские мусульмане», когда религиозный фактор превалировал над национальным в самоидентификации российских тюрок, хотя конец XIX — начало XX вв. ознаменовались появлением татарской национальной буржуазии, так называемым ренессансом татарского национального движения, ищущего возможности для реализации своих экономических и национальных интересов.
Война с Японией 1904-1905 гг. и поражение в ней, стимулировавшее революцию 1905 г., дали импульс развитию национальных движений в среде азиатских, в том числе тюркских, народов России. Затеплилась надежда на изменение национальной политики или, в крайнем случае, на то, что помощь «придет с Востока».
Необходимо упомянуть и еще один факт. В 1906-1907 гг. Японию с миссионерскими целями посетил мусульманский деятель, казанский татарин по рождению, Рашид ИбрагимовV. И хотя его утопические цели (уговорить японцев принять ислам в качестве государственной религии) не реализовались, почва для толерантного восприятия мусульманской культуры в Японии, носителями которой впоследствии стали в основном российские эмигранты — татары, была создана.
Пожалуй, только тюрко-татарская эмиграция впоследствии была столь доброжелательно принята в Японии (в 1927 г. она получила право создания национальной школы, было разрешено строить мечети в Кобе, Нагойе и в Токио. Мечети существуют до сих пор в этих городах, кроме Нагойи).
До 1944 г. имамами мусульманской общины в Токио были казанские татары, в том числе и Р. Ибрагимов. Кстати, книга Р. Ибрагимова «Âlem-i İslâm ve Japonya’da İntişar-i İslâmiyet» в России так и не была изданаVI.
Второй период охватывает время с начала 1917 г. до 1933-1935 гг. К 1935 г. татарских эмигрантов на Дальнем Востоке было около 10 тысяч. Считалось, что татар «в Японии имеется около двух тысяч, а в Маньчжурии и Китае около семи тысяч человек». В это время шел интенсивный процесс образования «мусульманских общин» из числа вынужденных эмигрантов по типу харбинской в Китае, Японии, а после разрушительного землетрясения 1923 г. в Токио — и в Корее.
В начале 1930-х гг. вся российская эмиграция столкнулась с новой политической ситуацией — созданием в Маньчжурии нового государства под японским протекторатом.
Перед лицом новой проблемы оказались и японцы. Дело в том, что в Маньчжу-Ди-Го существовало многонациональное саморегулируемое общество, огромное количество «белого», европейски образованного населения. Японцам пришлось впервые вырабатывать национальную политику, причем в отношении каждого конкретного национального сообщества.
Вся эта политика была подчинена подготовке к войне и ведению войны. Развитие татарской эмиграции согласовывалось с этими целями как по своей антисоветской направленности, так и потому, что японцы испытывали симпатию к татарам, считая их потомками прославленного Чингисхана, перед которым преклонялись.
«Сильный диктует свою волю слабому, главным критерием силы является военная мощь, а главным инструментом внешней политики — война, для победы в которой неплохо иметь союзника, способного оказать помощь и почти ничего не требующего взамен» — только эти уроки Япония, по мнению Г. Кунадзе, усвоила к концу Второй мировой войны и ими руководствовалась.
За татарами виделась историческая фигура, которая, ведя подобную политику, смогла покорить полмира. Такой народ вполне подходил на роль союзника. Кроме того, в качестве союзника тюрко-татары выступали фактически с момента окончания русско-японской войны.
Турецкий исследователь Сельчук Эсенбель доказательно показывает, как представители японской военной и гражданской элиты — носители паназиатских идей и их мусульманские друзья, стремящиеся освободиться от западной гегемонии, сформировали в Японии в последние годы периода Мейджи (1901-1911) «исламский кружок».
Их деятельность привела, в конце концов, к формированию японской государственной «исламской политики» (kaikyo seisaku) к началу Второй мировой войны и, в определенной степени, способствовала развитию японского национализма, с одной стороны, и политизации мусульманской диаспоры и росту националистических настроений в среде тюркоязычных диаспоральных сообществ, с другой. В частности, Сельчук Эсенбель отмечает роль М.-Г. Курбангалиева в формировании концепции «алтайского братства».
Можно предположить, что началу изучения Центральной Евразии, особенно формирование институтов академической науки, начавшееся в Японии во второй половине 1930-х гг., способствовало наличие тюрко-татарской эмиграции в Японии и ее деятельность.
С середины 1930-х гг. по 1945 г. существовало более десяти таких организаций, среди которых наиболее значимыми были: Исследовательский институт изучения исламского мира (печатное издание — «Исламский мир»), Японская исламская ассоциация («Мир Ислама»), Группа изучения ислама в Министерстве иностранных дел («Исламский ежемесячник»), Агентство экономических исследований Восточной Азии, Институт изучения Восточной Азии и Тихоокеанская ассоциация.
В 1937 г. «поднялся бум» интереса к исламскому и тюркскому миру. Не вызывает сомнений, что первый Всемирный конгресс последователей ислама, прошедший в Токио в 1938 г., был логичным результатом деятельности этих организаций.
Руководителем Исследовательского института изучения исламского мира с 1938 по 1945 г. был Окубо Кооджи, считающийся по праву пионером японской тюркологии, который являлся близким другом многих тюрко-татарских эмигрантовVII.
Этот институт поддерживал особо секретные отношения с Группой изучения ислама Министерства иностранных дел. Как отмечает японский исследователь Итагаки, хотя исламские исследования института не были политически ориентированы, но все же находились под политическим контролем и финансировались, так как отношения с мусульманами признавались национальной политикой.
Однако, на наш взгляд, мусульманский фактор для японцев в данном случае играл второстепенную роль. Интерес к религии, избранной татарами, возник, на наш взгляд, после интереса к самой исторической сущности татарской нации.
Кроме того, тюрко-татары были коммерсантами и в отличие от многих российских эмигрантов экономически независимыми, что являлось дополнительным обстоятельством, выделяющим их из общероссийской диаспоры. По мнению сотрудника МИДа Кооджи Окубо, «тюрко-татары, известные своими выдающимися коммерческими способностями, уже в начале X в. имели большие торговые связи с Китаем. Даже после разрушения тюрко-татарской государственной жизни торговые связи с Китаем продолжались.
В конце XIX — начале XX вв. тюрко-татарские коммерсанты завязали прочные торговые связи с Маньчжурией, Монголией и Китаем. После русской революции коммерческая деятельность тюрко-татар была перемещена в Ниппон. Тюрко-татары заняли хорошие позиции в торговле пушниной, шерстью, шкурами, волосом, мануфактурой, готовым платьем.
Обосновавшись в городах Хайларе, Харбине, Маньчжурии и по линии железной дороги, они обзавелись своими домами и разными торговыми предприятиями. Много татарских магазинов было в Корее и Ниппоне. Поколение же, выросшее в эмиграции, подготовлено для хозяйственной деятельности в Маньчжу-Ди-Го».
Благосклонность японцев к тюрко-татарской диаспоре проявлялась во всем. В 1939 г. в Манчьжу-Ди-Го была осуществлена реформа учебных заведений. Тюрко-татарские школы, вошедшие в сеть существующих образовательных учреждений в виде народных и повышенных народных школ, сохранили в неприкосновенности предметы национального и религиозного обучения27.
К этому времени политически наиболее активная часть эмиграции, разочаровавшаяся в возможности воссоздания национальной государственности в составе Советской России, стала создавать центры тюрко-татарской эмиграции: сначала в Варшаве (при поддержке Пилсудского, который был личным другом лидера татарского национального движения Г. Исхаки), а затем и в Берлине.
В ноябре 1933 г. Г. Исхаки предпринял поездку на Восток для объединения усилий западной и восточной ветвей эмиграции в национальной борьбе. Его цели совпадали с целями японцев по объединению национальных меньшинств в интересах установления контроля за ними и использования в возможном конфликте с СССР.
Попытка объединения татар на основе религии, предпринятая лидером Токийской махалли, не удалась. Вследствие этого, идея объединения по национальному признаку (как это было в отношении русской, еврейской и других диаспор) показалась японцам более приемлемой.
Период с середины 1930-х гг. до начала Второй мировой войны можно охарактеризовать как по-настоящему национальный третий период в истории тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке. В это время наряду с мусульманскими общинами стали создаваться комитеты независимости Идель-Урала, такие же как и в Европе. Но официально они носили название «обществ изучения культуры тюрко-татар Идель-Урала», так как термин «независимость» на Дальнем Востоке по «соображениям морали» японцы попросили заменить на термин «культурное общество».
В мае 1934 г. в Кобе состоялся Учредительный съезд, чуть позже в феврале 1935 г. в Мукдене (Маньчжурия) — Первый объединенный съезд тюрко-татар Дальнего Востока. В соответствии с резолюциями съезда с 1935 по 1945 г. выходила еженедельная газета «Милли байрак».
Фактически, в течение всех десяти лет редакционный состав газеты не менялся. Редактором был генеральный секретарь Меркеза Ибрагим Девлет-Кильди, главным журналистом — председатель учебного отдела Рукия Мухамедиш, издателем — председатель финансового отдела Сельман Аити.
В 1933-1938 гг. в Токио выходил ежемесячный журнал «Яна Япон мохбире» (Новый японский корреспондент), издаваемый лидером местной общины муллой М.-Г. Курбангалиевым.
Личность М.-Г. Курбангалиева, прибывшего на Дальний Восток в составе войск Колчака, а затем атамана Семенова в качестве руководителя мусульманских полков, неоднозначна. С одной стороны, обладая недюжинными организаторскими способностями, он фактически основал мусульманскую общину в Токио. С другой стороны, он, кадимист, сторонник мусульманского, а не национального развития, предпринял ряд некорректных действий в отношении Г. Исхаки, что, по мнению японских властей, не способствовало объединению тюрко-татар. В 1939 г. Курбангалиев был выслан из Японии в Маньчжурию.
Именно в течение третьего периода произошло становление татарской национальной идентичности тюрко-татарских эмигрантов в Северо-Восточной Азии: появление признанного всей эмиграцией (как западной, так и восточной) национального лидера в лице Гаяза Исхаки и национальной идеи в виде идеи возрождения независимого национального государства Идель-Урал. Как следствие, произошло преобразование тюрко-татарских общин — выделение из мусульманской общины (махалли) национальной составляющей в виде комитетов изучения культуры Идель-Урала, которые подчинялись Меркезу и в целом представляли собой централизованную структуру.
Дело «Идель-Урал»
Интерес к тюрко-татарской эмиграции проявляли и спецслужбы Советской России. Как пишет А. М. Буяков, «секретные службы СССР придавали большое значение сбору и учету получаемой информации о структуре, характере и жизнедеятельности различных белоэмигрантских организаций, особенно связанных с разведорганами Японии».
В 1938 г. в Казани готовился процесс над антисоветской «контрреволюционной организацией панисламистов» «Идель-Урал». В архиве УФСБ РФ по РТ под грифом «Совершенно секретно» хранятся три тома «Сборника следственных материалов по делу вскрытой антисоветской буржуазно-националистической шпионско-повстанческой организации «Идель-Урал», датированные 1938 г.
«Дело» готовилось и для разгрома татарского национального движения внутри страны, для оказания возможного влияния на эмиграцию. Были выделены три уровня «подрывной деятельности» — районы Татарской АССР, Казань и центры эмиграции в Германии, Турции и Маньчжурии. Было арестовано и допрошено 40 человек. Среди лидеров организации в эмиграции перечислены: Г. Исхаки, С. Максуди, Ф. Туктаров, А. Баттал, З. Валиди, Г. Идриси, Г. Терегулов, Р. Ибрагимов (проживавший в Японии), А. Агеев (проживавший в Харбине).
Основная цель процесса заключалась в доказательстве того, что государство Идель-Урал было задумано как буферное государство между СССР и Японией, и находится под японским протекторатом; что оно ориентировано на интервенцию Германии и Японии против Советского Союза, на активную помощь со стороны белой татарской эмиграции. Были добыты показания о формировании на местах низовых ячеек повстанческого направления, которые якобы должны были произвести вооруженное выступление в момент интервенции.
Несмотря на активную подготовку, процесс не состоялся. Сами организаторы «дела» попали под колесо сталинских репрессий. Главные из них — Михайлов и Шелудченко — были расстреляны в один день с Ежовым, в числе тех лиц, которых обвинили в нарушении сталинских указаний о бережном отношении к кадрам и превышении полномочий.
Начало Второй мировой войны стало началом четвертого периода.
Второй курултай тюрко-татар Восточной Азии работал 28-31 августа 1941 г. Он был проведен «при высоком покровительстве начальника ниппонской военной миссии в Харбине генерала Янагита, и при благожелательном содействии руководителей военной миссии города Мукдена».
«В своей декларации, торжественно принятой на открытии, курултай заявил о своей готовности принять живейшее участие в строительстве Нового Светлого Порядка и в укреплении взаимного содружества народов великой Восточной Азии. На нем была особо подчеркнута национально-историческая связь тюркского и мусульманского миров с родственными азиатскими народами. Далее курултай высказал свое враждебное отношение к Коминтерну, приняв решение бороться с этим общим врагом совместно с народами Великой Восточной Азии».
Второй курултай, пересмотрев ранее принятые уставы, избрал новый Меркез. Председателем стал Ахмедша Гизатуллин, генеральным секретарем — переизбранный Ибрагим Девлет-Кильди, председателем духовного отдела — имам Абдулкерим Рахим, председателем учебного отдела — переизбранная Рукия Мухамедиш, председателем финансового отдела — переизбранный Сельман Аити и председателем ревизионного отдела — Ибрагим Акчура.
В 1942 г. в Германии был создан «Восточный легион», в рамках которого подразделение «Идель-Урал» стало самостоятельной единицей. В Турцию к Г. Исхаки приехали представители германского командования с предложением возглавить процесс организации военных соединений. Г. Исхаки отказался. Одновременно в Маньчжурии были созданы военизированные отряды Асано с участием представителей дальневосточной тюрко-татарской эмиграции.
С окончанием Второй мировой войны, наступлением в Китае и Японии советских и американских войск меняется ситуация и для тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке. Наступает пятый период в ее истории.
Сотрудники газеты «Милли Байрак» и мулла М.-Г. Курбангалиев были арестованы СМЕРШом, и после 10-летней отсидки в ГУЛАГе, а затем нескольких лет поселения, возвратились в родные места — в Татарстан, Казахстан, на Урал. Более удачливым удалось перебраться в Турцию, Австралию и США, где они создали современные татарские диаспоры.
Ссылки
I Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай — сын ишана Габидуллы Курбангалиева. В 1915-1916 гг. выполнял обязанности секретаря муфтия М. Султанова. Не приняв идеи национально-государственной автономии Заки Валидова, тем более ее советского варианта, М.-Г. Курбангалиев с войсками Колчака ушел в Сибирь, оттуда — в Маньчжурию. В 20-30-е гг. служил имам-хатыпом в Маньчжурии и в Японии. В Токио он построил на свои средства мечеть, медресе и типографию (Мы не согласны с мнением А. Юнусовой о том, что Курбангалиев построил мечеть и школу на свои средства. Существует большая вероятность того, что строительство спонсировали японцы. — Л. У.). Вернулся в СССР в 1945 г., но в качестве арестанта. Схваченный в г. Далянь советскими войсками, он был этапирован во Владимирскую тюрьму, где отсидел до 1955 г. Власти запретили М.-Г. Курбангалиеву выезд в Токио к семье. До самой смерти (умер в августе 1972 г.) он выполнял обязанности муллы в Челябинской области (см.: Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. – Уфа, 1999. – С. 110-111).
II В частности, газета «Милли Байрак» и журнал «Яћа Япон Мохбире».
III Интересен тот факт, что Гаяз Исхаки, находясь в Маньжурии, тем не менее подчеркивал связь поволжских татар, манжур, китайцев, монгол и японцев с тюрками Чингисхана, называя их на собрании в Хайларе 24 октября 1934 г. «детьми Чингисхана» (см.: Хайларда милли эшлермез. – Яћа Милли Юл. – 1934. – № 12 (83) – С. 16-23).
IV Хотя региональные организации «Прометея» в Маньчжурии существовали. Об их участии в собраниях тюрко-татарской эмиграции упоминается на страницах «Яћа Милли Юл».
V Р. Ибрагимов — один из организаторов Всероссийских съездов мусульман в 1906-1907 гг., член ЦК партии «Иттифак-аль-муслимин». Издатель и редактор журналов и газет. С 1921 г. — в эмиграции, с 1933 г. — в Японии, имам соборной мечети в Токио. Много путешествовал по странам Востока и Европы, изучал жизнь мусульманских общин, пропагандировал ислам. Автор книг по истории распространения ислама в Юго-Восточной Азии и политической истории татар (см.: Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1998. – С. 214).
VI Книга была издана в 1910 г. в Турции, где и хранится оригинал. В Японии она переведена на японский язык Хисао Коматцу под названием «Жапония».
VII В частности, журнал «Яћа Милли Юл» посвящает Окубо Кооджи целую статью (1934 – № 9 (80) – С. 6-7), где высоко оценивает его деятельность в интересах тюрко-татарских эмигрантов в Японии и не только.
ПриложениеТюрко-татарские общины в Северо-Восточной Азии |
| Расположение | Год создания | Собственность | Количество членов в 1941 г. | Количество членов в 1942 г. | Количество членов к сентябрю 1945 г.I |
| Станция Маньчжурия | 1904 | Нет данныхII | 500 | Нет данных | 50 |
| Хайлар | Нет данных | Здание, две школы, мечеть (?) | Нет данных | Нет данных | Около 500 |
| Харбин | 1904 (как Мусульманская община) | Два здания (1907, 1913), школа, приют для беженцев (1937), детский дом (1941), мечеть (старая – 1907, новая – 1937) | 600 | 500 | Около 500 |
| Станция Пограничная | Нет данных | Здание | Нет данных | Нет данных | 0 |
| Мукден | Нет данных | Здание, мечеть (?), кладбище | Нет данных | Нет данных | 90 |
| Синцзян | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Гирин | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 70 |
| Дайрен (Дальний) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Кобе | Нет данных | Мечеть (1935) | Нет данных | Нет данных | 200 |
| Токио | До 1927 (1923?) | Mечеть (старая – 1938, новая – 2000), школа | Нет данных | Нет данных | 40 |
| Нагойя | Нет данных | Мечеть (1936-37) | Нет данных | Нет данных | 50 |
| Кумамото (Япония) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Шанхай | 1926 | Нет данных | 120-200 | Нет данных | 200 |
| Тяньцзин | 1928 | Кладбище (1933) | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Сеул | После 1923 | Mечеть (1926), школа «Ногмания», кладбище | Нет данных | Нет данных | 100–120 |
| Пусан | После 1923 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
I Данные взяты из записи допроса Рукии Мухамедиш (5 сентября 1945 г.).
II «Нет данных» означает, что автор на настоящее время исследования не проводил.
Тюрко-татарская эмиграция в Северо-Восточной Азии начала XX в.
Автор: Лариса Усманова, соискатель докторской степени Института Северо-Восточной Азии университета Шимани (Япония). Публикуется в сокращении